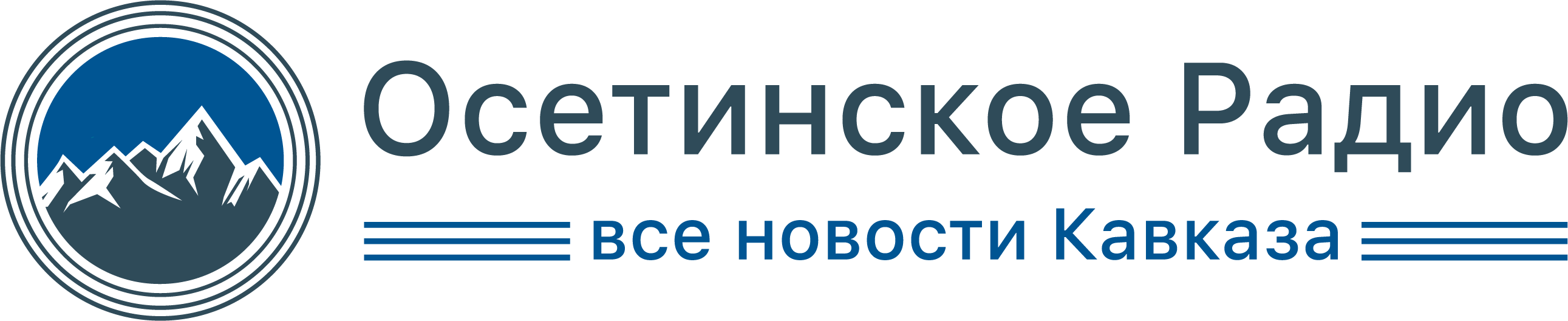КОСТА — ЭТО НАШЕ ВСЕ!
Константин Леванович Хетагуров или, как просто и сердечно называют его в народе – Коста, родился в Северной Осетии в горном ауле Нар Владикавказского округа Терской области 3 октября (15 октября по новому стилю) 1859 года, спустя 18 лет после смерти Лермонтова и за два года до смерти Шевченко. Он был сверстником Надсона, Врубеля, Серова, современником Герцена, Толстого, Некрасова, Чернышевского, Репина, Чайковского, его связывали теплые дружеские отношения с В.В. Верещагиным, В. И. Смирновым. Коста и самого с полным основанием можно причислить к созвездию славных имен, к тем, кто во имя счастья и процветания родной земли, родного народа готов пожертвовать всем, в том числе и своей жизнью. В одном из своих программных стихотворений он писал:
Я смерти не боюсь, – холодный мрак могилы
Давно меня манит безвестностью своей,
Но жизнью дорожу, пока хоть капля силы
Отыщется во мне для родины моей…
Я счастия не знал, но я готов свободу,
Которой я привык, как счастьем, дорожить,
Отдать за шаг один, который бы народу
Я мог когда-нибудь к свободе проложить.
Творческое наследие Коста многогранно, многолико. Он был поэтом, прозаиком, драматургом, публицистом, художником-живописцем, этнографом. В 1939 году на празднике в честь 80-й годовщины со дня рождения К. Хетагурова Александр Фадеев говорил: «В развитии народов бывают такие полосы, такие эпохи, когда народ выдвигает людей, являющихся… предвестниками коммунизма. Я говорю о великой способности такого своеобразного человека, как Коста, соединять в себе лучшие черты людей Возрождения, самые разносторонние дарования. Если хотите, Коста Хетагуров является своего рода Леонардо да Винчи осетинского народа. Какую силу любви к своему народу нужно иметь, чтобы в условиях старой Осетии быть одновременно и поэтом, и прозаиком, и драматургом, и театральным деятелем, и художником, и публицистом, и общественным деятелем» (Коста Хетагуров. Памяти великого осетинского поэта. М., 1941, с.
Звонкая поэтическая лира Коста вобрала в себя миф и эпос, фольклор и интимную лирику, гражданскую поэзию и стихи для детей. Разнообразны и поэтические жанры, которыми оперирует Коста. Помимо собственно стихотворений, это поэмы, легенды, песни, басни. Есть в его творчестве и вполне оригинальный жанр, выдуманный, точнее, выстраданный самим Коста – «зæрдæйы сагъæстæ» – «думы сердца».
Именно этот жанр основополагающий в главной книге поэта – «Ирон фæндыр» («Осетинская лира»). «Думы сердца» – не просто поэтическая метафора. Коста всегда писал вдохновенно, с широко распахнутой душой, вкладывая в каждую строчку, в каждое слово трепетные движения ума и сердца. Сердце у поэта не только «думало», оно у него болело, терзалось, казнилось за свою землю, за многострадальный родной народ. «Я никогда своим словом не торговал, никогда ни за одну свою строку ни от кого не получал денег… И пишу я не для того, чтобы писать и печатать, потому что и многие другие это делают. – Нет! Ни лавры такого писания мне не нужны, ни выгоды от него… Я пишу то, что я уже не в силах бываю сдерживать в своем изболевшем сердце…», – писал Коста из очаковской ссылки своему другу и издателю «Ирон фæндыра» Г. Баеву. (К. Хетагуров. Собрание сочинений в пяти томах. Москва, изд-во Академии наук СССР, т. 5, стр. 144. В дальнейшем при ссылке на данное издание указывается только номер тома и страница). В этих словах Коста – его принципиальная жизненная и творческая позиция.
Еще до выхода в свет в 1899 году сборника «Ирон фæндыр» стихи Коста имели широкое хождение в народе. Они переписывались почитателями его поэзии, передавались из рук в руки, ими зачитывались, на них слагали песни. «У тебя есть весьма прелестные вещицы, вроде «Кубады», который я устал даже переписывать любителям осетинских стихов» (т.5, стр. 409), – сообщает Гаппо Баев Коста в момент работы его над «Ирон фæндыром», а простая любительница поэзии из села Ардон адресует поэту восторженные строки: «Что значит быть Коста! Вас знают в каждом осетинском доме… Я жду и жду осетинские стихи» (т.5, стр. 425).
Такие «думы сердца», как «Завещание», «Знаю», «Мать сирот», «Кубады», «Додой» и многие другие, еще при жизни их автора стали неувядаемой классикой осетинской поэзии, навечно вошли в ее золотой фонд. В них ярко воплотилась не только нежная, остро чувствующая и легко ранимая душа их автора, в этих «думах сердца» – исполненные чистоты, благородства и мудрости мысли, дела и чувства народа, хлебнувшего на своем веку немало горя, и все же сумевшего сохранить в себе веру и надежду в светлый завтрашний день.
Коста – защитник бедных и обездоленных, Коста – глашатай дум и чаяний народных. Не в этой ли кровной, незыблемой связи поэта с родной землей и родным народом истинный корень «народности» его творчества, великая притягательная сила его стозвучной, полифонической лиры, то трепетно-ласковой и нежной, как прикосновение материнских рук, то скорбной и безотрадной, как непроглядный мрак ночи, то звучной, набатной, как крик с боевой башни-мæсыга, возвещающий о появлении врага? И не здесь ли истоки всенародной любви к поэту на века?
«Ирон фæндыр», небольшой томик, насчитывающий около 60 стихотворений, до сего дня остается своего рода Библией осетинского народа, книгой книг, в которой запечатлена бессмертная душа народа, а сам автор – кристально чистой, неподкупной его совестью. Не найти осетина, который бы не был знаком с этой книгой, не знал из нее отдельных строк и даже целых стихотворений наизусть. «Ирон фæндыр» выдержал не один десяток изданий на родном языке и в переводе на русский. Сборник издавался и на многих других языках народов мира, и везде поэзия Коста находила и находит самый горячий отклик в сердцах все новых читателей.
Сохранившиеся черновые страницы автографов позволяют судить о том, как работал, как творил Коста. За редким исключением, строки его стихов испещрены многочисленными исправлениями, пометками, уточнениями. Писалось Коста нелегко, ему были ведомы муки творчества. Слова в горниле поэзии выплавлялись отнюдь не сразу и не без труда, зато надолго, навечно. Иным предстает дошедший до наших дней беловой вариант рукописи «Ирон фæндыр». Он написан рукой Коста с той тщательностью и трогательной старательностью, с какой народный мастер-ювелир гравирует по серебру тончайшую вязь орнамента. Чернильные строки, выведенные почти каллиграфическим почерком, успели поблекнуть, ведь со дня их написания минуло целое столетие, однако за ними зримо встает облик человека, страстно влюбленного в поэзию и твердо знающего истинную цену художественному слову.
Будучи уже завершены, стихи Коста приобретают легкость, непринужденность, естественность интонации. Им присущ смелый динамичный ритм, особая четкость и афористичность. Не зря многие строки его стихотворений стали популярными пословицами и поговорками.
Подкупающая живость и образность, особая чеканность формы отличает и стихи Коста, написанные по-русски.
Лучше умереть
народом
Свободным, чем
кровавым потом
Рабами деспоту
служить.
(«Плачущая скала»)
В нескольких словах так ясно и четко изложить свою мысль мог лишь человек, в совершенстве владеющий языком. У Коста всегда велика была тяга к познанию. Выходец из глухого горного аула, Коста сумел в самые короткие сроки овладеть русским, тем языком, на котором творили его великие предшественники – Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, навсегда ставшие для Коста образцом высокого и честного служения народу и литературе. На русском языке Коста писал столь же охотно, как и на родном языке, и создал на нем такие замечательные произведения, как поэмы «Фатима», «Плачущая скала», пьеса «Дуня», рассказ «Охота за турами». Это позволяет говорить о Коста как о писателе двуязычном, что для его времени было явлением несомненно уникальным.
Святая, безграничная любовь к людям, к миру, пожалуй, одна из самых верных примет величия писателя. Поэзия Коста проникнута духом интернационализма, братского единения народов. Горячий патриот и истинный сын своего народа, Коста вместе с тем никогда не ограничивался узко-национальными рамками, а с высоты кавказских гор стремился охватить проницательным взглядом поэта-гражданина всю землю, весь мир.
Весь мир – мой храм,
Любовь – моя святыня,
Вселенная – отечество мое.
(«Я не пророк…»)
Со стихами Коста во многом перекликалась его публицистика, такая же смелая, страстная, обличающая. В статьях и очерках «Неурядицы Северного Кавказа», «Горские штрафные суммы», «Развитие школ в Осетии», «Внутренние враги», «Пути сообщения в горной полосе Кавказа», публикуемых в северокавказских и петербургских газетах и журналах, Коста выявлял тяжелое социально-политическое и экономическое положение кавказских горцев, показывал чинимый над ними произвол. В условиях царского самодержавия для этого требовался не только талант писателя, но также мужество и стойкость борца.
«Когда в стране ничтожная кучка самообольщенных начинает агитировать против трудолюбивого и обремененного до крайности населения, то такую кучку людей не только нельзя считать своими единоплеменниками, но прямо самыми злейшими врагами экономического и нравственного благополучия одноплеменного населения. Это враги внутренние…» (т.4, стр. 2
Напуганные свободолюбивым духом, который пронизывал стихи и статьи Коста, власти не раз устраивали на него гонения, высылали за пределы родного края. Эти ссылки исподволь подтачивали здоровье Коста, но в то же время еще более закаляли его мятежный дух. Коста твердо верил в близкий конец мрака, в скорое наступление яркого солнечного дня.
Минуты сочтены, повсюду бьют
тревогу…
Уж брезжит луч зари, играя
на штыках…
(«Не упрекай меня…»)
Выдающееся поэтическое дарование глубоко сочеталось у Коста с художественным. Две страсти, две музы – поэзия и живопись – неотрывно сопровождали всю его недолгую и трудную жизнь, то вступая в незримое соперничество, то причудливо переплетаясь и счастливо дополняя друг друга. «Я художник и народный поэт…» (т.5, стр. 297), – пишет Коста в своих автобиографических заметках, без тени смущения ставя на первое место как раз свои художественные пристрастия. Об этом же свидетельствует другая собственноручная запись Коста: «…профессия моя – живопись, ею я и поддерживал свое существование со времени выхода из императорской академии художеств…» (т.5, стр. 323).
Зачастую именно художнический дар вдруг пересиливает в нем влечение к поэзии, и тогда ему не без труда удается сдерживать свои творческие порывы. «…Жду не дождусь моих красок…», – с отчаянием восклицает он в одном из своих писем (т.5, стр. 93), в другом откровенно признается, что живописью он всегда увлекается до изнеможения (т.5, стр. 49), в другом письме из Херсона вновь с нетерпением вопрошает: «Когда я получу свои краски? Такой художественный зуд чувствую, когда выхожу из хаты, что и сказать не могу… Так все и просится на полотно». (т.5, стр. 113).
Понятно в этой связи каким тяжелым ударом могло стать для Коста-художника похищение у него этюдника с красками, к тому же подаренного ему таким выдающимся мастером, каким был В. Верещагин. В полном отчаянии Коста дает сообщение об этом в местную газету, надо полагать, с надеждой, что похитители проявят человеческое участие и понимание и вернут дорогую для художника реликвию: «13 сентября, около 10 часов вечера, с открытого окна в квартире художника Коста Хетагурова, проживающего в доме Михайловой по Воронцовской улице, похищен неизвестно кем ящик с масляными красками, подаренный г. Хетагурову известным художником В.В. Верещагиным». (т.5, стр. 477). Но это сообщение остается без ответа: этюдник с красками бесследно исчезает.
Вопрос о том, где и как развивался в Коста заложенный в нем от природы талант художника, во многом риторичен. Санкт-Петербург и императорская Академия художеств, в которой Коста учился с 1881 по 1885 год, сыграли здесь свою главную определяющую роль. В стенах знаменитой императорской Академии Коста получает первые профессиональные навыки художника-рисовальщика и живописца, здесь он проникается задачами и идеями высокого искусства. Молодой Коста – завсегдатай многих художественных выставок и, конечно же, – императорской картинной галереи, Эрмитажа, где он проводит целые часы и дни напролет. На выставках он пропадает и будучи студентом Академии и в каждый свой последующий приезд в Петербург. «Картинных выставок открыто здесь видимо-невидимо, – с радостью сообщает Коста из Санкт-Петербурга Елене Цаликовой. – Скитаюсь по ним до одурения, пока прислуга, перед тем, как
запереть выставку, не берет меня за шиворот и, как загипнотизированного, не спускает с лестницы». (т.5, стр. 58).
В Эрмитаже Коста-студент внимательнейшим образом изучает различные художественные школы, стиль и манеру письма старых мастеров. Его записная книжка тех времен испещрена записями, напрямую свидетельствующими об этом его глубоком интересе:
«Фламандская школа
Ван-дер-верф
Немецкая школа
Деннер – старуха, старик».
Или другая запись:
«Рейнольде (английская школа) 1391 аллегорическая
Итальянская
Доменикино – евангелист
Караччи – Христос с крестом
Тициано – Женщина перед зеркалом»
И вновь запись об особо полюбившемся художнике:
«Эрмитаж. Ван-дер-верф (Голландская школа)». (т.5, стр. 2
Однако до Санкт-Петербурга и императорской Академии художеств в жизни юного Коста Хетагурова был еще Ставрополь, точнее, Ставропольская классическая гимназия, которой следует воздать должное уже за то, что именно здесь были выявлены первые ростки художнического дарования Коста.
Коста был принят в подготовительный класс Ставропольской мужской классической гимназии в ноябре 1871 года двенадцатилетним юношей и проучился здесь до середины лета 1881 года, когда он по окончании шести классов был направлен в Санкт-Петербург для поступления в императорскую Академию художеств. В сопроводительном письме в Академию художеств начальник Кубанской области сообщает:
«Директор Ставропольской гимназии ввиду того, что во все время пребывания в гимназии воспитанника Хетагурова, жителя Баталпашинского уезда, укрепления Хумар, замечал в нем преобладающую способность и наклонность к художественной деятельности, в которой он достиг значительного совершенства, так что его рисунки с натуры посылаются гимназиею на Московскую всероссийскую выставку, просил меня в предоставлении ему одной из двух стипендий, оплачиваемых из горских штрафных сумм, … с целью оказания ему содействия на пути художественного образования в императорской Академии художеств» (т.5, стр. 384).
«Способность и наклонность к художественной деятельности», иными словами, талант юного Коста, возможно, так и остался бы нераскрытым или, в лучшем случае, его обладатель надолго оказался бы зачисленным в ранг подающих надежды, не подвернись счастливый, многое определивший в судьбе Коста случай: в начале 1873 года учителем рисования и чистописания в Ставропольской гимназии, вместо ушедшего Страшевича, становится Василий Иванович Смирнов (18
В. Смирнова и Коста связывали самые теплые отношения, которые они оба сохранили на долгие годы. Характерно в этом отношении письмо Коста к своему бывшему учителю, которое он направил из Петербурга в 1897 году в канун Нового года, находясь в больнице в ожидании тяжелой операции: «В этой громадной, мрачной больнице, среди сотен страждущего люда, ни о ком я так не скучаю, как о Ваших детях, дорогой Василий Иванович! С каким бы наслаждением я провел в их обществе текущие праздники, как дорого бы дал, чтобы посидеть с ними хоть один час в этот, – особенно радостный для детей, – день великого христианского праздника! Но, видимо, не судьба мне быть таким счастливцем. Лишенный с самого раннего детства материнской ласки и радостей семьи, я до сих пор с поразительной восприимчивостью переживаю волнения, радости и печали счастливого детского возраста. Нигде мне так не весело, как с ними, ни за кого я так не страдаю, как за них… Примите уверение в искренности всего сказанного и горячей привязанности к Вам Вашего всегда благодарного и признательного ученика Коста.»
(т. 5, стр.
Слова благодарности и признательности стояли и на первом листе альбома для рисования, который Коста подарил Василию Ивановичу в 1877 году. Здесь же красовалась изящно выполненная карандашом «Роза» – своеобразный автограф Коста-художника. Очевидно, Коста был в целом неравнодушен к цветам, о чем, в частности, свидетельствуют засушенные в одной из книг поэта стебельки полевых цветов, сохранившиеся до сего времени в фондах Северо-Осетинского литературного музея в г. Владикавказе.
В июле 1881 года в Совет императорской Академии художеств от имени 22-летнего «воспитанника Ставропольской гимназии, осетина Константина Хетагурова» поступает прошение: «Желая поступить в число учеников Академии, честь имею покорнейше просить допустить меня к приемным экзаменам. При сем прилагаю свои документы: свидетельство об успехах во время пребывания моего в 6 классе Ставропольской гимназии, метрическое свидетельство, свидетельство о дворянском происхождении». (т.5, стр. 303). Коста успешно сдает вступительные экзамены и зачисляется в число студентов Академии в начальный класс гипсовых голов и фигур. Руководил этим классом известный педагог и художник, адъюнкт-профессор Академии П.П. Чистяков. В одно время с Коста в Академии учились живописцы Серов, Врубель, Самокиш, скульпторы Гинцбург, Беклемишев, впоследствии ставшие виднейшими представителями русского изобразительного искусства XIX века. Павел Чистяков прививал студентам навыки классического реалистического искусства и, прежде всего, точного рисования с античных гипсовых слепков. «Порядок и правильная форма предмета в рисовании важнее и дороже всего, – учил профессор. – Талант бог даст, а законы лежат в натуре. Все и устроено по закону, следовательно, и требуется прием законный и простой, а не путаный». (Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953, стр. 344). Работы студентов-академистов оценивались баллами от однозначных до двузначных, при этом чем ниже был профессиональный уровень рисунка, тем больший выставлялся балл. На первых экзаменах рисунки Коста отмечались в пять-шесть десятков баллов, а уже к завершению первого года обучения оценки снизились до полутора десятка баллов, что свидетельствовало об успешном освоении Коста академических штудий. (И. Беккер. Коста Хетагуров в Академии художеств. Сборник «Коста», М., 1941, стр.
Конечно, учиться в Академии для молодого провинциального художника, имеющего за плечами лишь незаконченное гимназическое образование, было непросто: недоставало не только профессиональных знаний, но и знаний по общим дисциплинам. Тем не менее Коста проявляет необходимые в учебе настойчивость и усердие и переходит в следующий класс. Но уже в 1883 году учеба в Академии для Коста крайне осложняется, ибо он оказывается без стипендии, которую ему до этого времени высылали из Кубанской области. Он вынужден зарабатывать на жизнь поденным трудом, нанимается на невских пристанях разгружать баржи, порой здесь же и ночует. «После перехода в гипсово-фигурный класс я стал посещать Академию очень не аккуратно, а потом и совсем бросил, благодаря полнейшему недостатку средств» (т.5, стр 304), – напишет Коста впоследствии. Вскоре из-за пропусков занятий и за неуплату денег за обучение он исключается из числа воспитанников Академии художеств. Однако и здесь он не желает сдаваться и прилагает все усилия, чтобы остаться в Академии хотя бы на положении вольнослушателя. «Константин Хетагуров обратился в канцелярию Академии с просьбой о выдаче ему, по бедности, бесплатного для посещения лекций билета» (т. 5, стр. 386), – делает запрос Академия художеств в канцелярию петербургского градоначальника, желая получить сведения о поведении и имущественном состоянии своего студента. Тем не менее летом 1885 года Коста Хетагуров вынужден оставить учебу в Санкт-Петербургской Академии и выехать на родину.
В черновиках к незавершенной поэме «Чердак», начатой еще в годы учебы в Академии, Коста «награждает» императорский Петербург насколько выразительным, настолько и свежим, незатасканным эпитетом «спесивый»:
«Давно уж под ночным
покровом
Спесивый город отдыхал…»
Должно быть, у молодого поэта и художника были для такой оценки веские основания. И все же императорский Санкт-Петербург, красивый и холодный в своей неприступной царственности, а порой и вовсе суровый и безжалостный к выходцу с Кавказа, навсегда остался в жизни Коста светлым лучезарным пятном, высшей неповторимой жизненной школой, поистине, академией жизни и искусства, единственным, неповторимым в своем красочном обличье городом, где он приобщился к истокам высокого искусства и эстетики, где смог познать первые радости и разочарования, юношеские любовь и тоску по родине. Отсюда, из столицы России, берет начало нелегкий творческий путь Коста, здесь им созданы первые значительные художественные и поэтические опыты, сюда, в ставший почти родным Петербург, он возвращается, чтобы излечиться от своих духовных и физических недугов, здесь, в стольном городе, пытается добиться правды.
Так, ранняя весна 1899 года застает Коста в Петербурге, куда он прибывает с надеждой хоть как-то смягчить суровое решение властей Терской области о его высылке за пределы Кавказского края. Прогуливаясь в одиночестве по многолюдному Невскому проспекту и пытаясь не утратить твердости духа, поэт, по его же собственному признанию, размышлял про себя: «Быть или не быть?»… Невский, как «Терек в теснине Дарьяла», в это время особенно сильно клокотал своими огромными волнами многотысячной толпы движущихся во всевозможных направлениях и всевозможным способом с быстротой живых существ… «Быть или не быть?»… Конечно, быть! Ведь вот эти тысячи суетливо, болезненно, озабоченно снующих людей предпочитают же оптимистическое «быть» пессимистическому «не быть». Что же я за исключение такое! Конечно, – «быть!» (т.5, стр.
Владикавказ, 30-тысячный провинциальный город, к концу XIX века непререкаемая культурная столица всего Северного Кавказа, охотно посещаемая многими выдающимися представителями русской и мировой культуры, достаточно приветливо встречает молодого художника. Коста снимает во Владикавказе недалеко от Чугунного моста квартиру под мастерскую у лесничего Ибрагима Шанаева, знакомого ему еще с Петербурга. Здесь он активно занимается живописью в течение шести лет, с 1885 по 1891 год, то есть до того момента, когда по распоряжению начальника Терской области он высылается из города «за подстрекательство живущих во Владикавказе осетин к подаче неправильных прошений и неузаконенных адресов». (т.5, стр. 401).
Лучшие произведения Коста-художника созданы именно в этот владикавказский период. Помимо чисто творческой, Коста занимается и общественной работой: он организует местные силы художников и устраивает выставки картин, а также художественно оформляет благотворительные вечера для бедных с постановкой живых картин – все это было совершенно новым для Владикавказа той поры. Городские газеты наперебой превозносят изящный вкус и богатую фантазию художника, а дирекция Владикавказского театра обращается к нему с просьбой написать декорации для спектаклей. Коста принимает это предложение и на новом для себя поприще за короткий срок успешно выполняет декорации к опереттам «Цыганский барон» И. Штрауса, «Хаджи-Мурат», феерии «Дети капитана Гранта». Чем же отплачивает молодому художнику дирекция театра?
Об этом красноречиво извещает своих читателей газета «Северный Кавказ»: «Товарищество актеров обмануло художника Коста Хетагурова, писавшего декорации… Хетагуров был приглашен написать декорации для оперетты «Хаджи-Мурат»… Первый спектакль был почти полон, последующие три тоже, причем успех пьесы много зависел от мастерского исполнения г. Хетагуровым декораций. Но, несмотря на это, художник получил только 10 рублей, с обещанием вознаградить г. Хетагурова более солидной суммой. Затем потребовались декорации для феерии «Дети капитана Гранта». Опять был приглашен г. Хетагуров, без участия которого пьеса не могла пойти. Работа его продолжалась почти месяц и увенчалась полным успехом. На первом представлении художника вызывали три раза, и товарищество с трех или четырех спектаклей названной феерии получило около полутора тысяч рублей, если не более. За этот труд г. Хетагурову было дано тоже 10 рублей. Таким образом, за написание декораций в двух пьесах, не считая «Цыганского барона», где были его же декорации, он был рассчитан ниже всякого поденщика». (Газета «Северный Кавказ», 1888, №22).
Иное поле деятельности для Коста – усердные занятия живописью и организация художественных выставок во Владикавказе. Порой это бывает выставка одной-единственной картины, как в случае с картиной «Святая равноапостольская Нина, просветительница Грузии», написанной в 1887 году красками на доске и выставленной в одном из центральных помещений Владикавказа для широкого обозрения. По этому случаю газета «Северный Кавказ» публикует пространную заметку: «Не можем обойти здесь молчанием приятную новость в нашей будничной жизни. С последних чисел прошлого ноября в помещении владикавказского коммерческого клуба выставлена картина молодого художника К. Хетагурова, бывшего воспитанника Ставропольской гимназии, а впоследствии ученика Петербургской художественной академии. Картина эта, нарисованная на доске, представляет равноапостольную просветительницу Грузии, св. Нину – во весь рост юную девушку, помещенную в нише. Какова эта картина в отношении исполнения, ясно показывает то обстоятельство, что многие из посетителей выставки просят у г. Хетагурова позволения зайти за перегородку, отделяющую картину от публики, и воочию убедиться, что св. Нина действительно нарисована, а не представляет из себя «алебастровой статуи», как это кажется многим. В левой руке, покоящейся на груди, просветительница держит рельефно выступающий написанный пергамент, а в правой – крест из виноградных лоз, скрепленных ее собственными волосами. Сверх повязки, наполовину прикрывающей лоб, на голову накинут ярко выделяющийся с общего фона белый башлык. Вся фигура, все принадлежности костюма поражают изумительной натуральностью, но особенное внимание посетителей всегда останавливает на себе выражение глаз у святой Нины: взор ее, обращенный в пространство, так и светится глубоким, всецело охватившим ее вдохновением, святою верою и всестороннейшею преданностью воле того, служению которому она избрала целью своей жизни… Выставка продолжится до 6 декабря, а затем картина будет отправлена заказчику в Тифлис. К этому, еще пока первому здесь почину местная публика отнеслась очень сочувственно: с 28 ноября по 4 декабря выставку посетили около 600 человек. Плата за вход 10 копеек. От души приветствуя благой почин молодого художника, мы в то же время позволяем себе высказать пожелание, чтобы пример этот не остался без подражания, тем более, что у нас в городе имеются любители живописи, о воспитательном же значении таких выставок, в смысле развития у публики изящного художественного вкуса, и говорить нечего. Надеемся мы и на то, что г. Хетагуров, ободренный таким очевидным к нему вниманием владикавказцев, не преминет в недалеком будущем представить нам возможность познакомиться и с другими произведениями своего таланта». (Газета «Северный Кавказ», 1887, №97).
А еще через неделю та же газета подвела итог проведенной выставки: «6 декабря закончилась выставка картины г-на Хетагурова «Св. Нина, равноапостольная просветительница Грузии». Владикавказское общество отнеслось к благому почину молодого художника довольно сочувственно: посетители выставки представляли из себя самую разнообразную публику – здесь были генералы и солдаты, аристократы и мещане, учащаяся молодежь, ремесленники, чернорабочие и т.д. Общее количество побывавших на выставке дошло до 846 человек, что для 33-тысячного населения города составляет очень значительную цифру. А насколько сочувственно отнеслось к г-ну Хетагурову правление коммерческого клуба, красноречиво видно из того, что за маленькую ничтожную комнатку, и притом темную, оно взяло с художника двадцать процентов валового сбора. Не правда ли, какое трогательное меценатство!» (Газета «Северный Кавказ», 1887, № 99).
Как и многие из произведений Коста, картина «Святая равноапостольная Нина – просветительница Грузии», к сожалению, оказалась утерянной. Не сохранилось и сведений об ее отправке в Тифлис заказчику, как сообщалось в публикации «Северного Кавказа». Та же участь постигла и другой художественный заказ, на этот раз для Кабарды, выполненный примерно в это же время Коста Хетагуровым – роспись кавказского серебреного столика. Судя по сохранившейся газетной информации, Коста выполнил не сам столик (нет никаких упоминаний, что Коста когда-либо работал в области декоративно-прикладного искусства), а лишь эскиз к нему, что косвенно подтверждается тем, как автор газетной заметки в ее заключение как бы сетует на то, какой, дескать, нелегкий труд предстоит ювелиру-фабриканту, чтобы перевести столь изящно выполненный эскиз в окончательное изделие.
О характере и стилистических особенностях выполненного Коста эскиза можно судить по уже упомянутой публикации в газете «Северный Кавказ»: «Рисунок верхней части столика исполнен художником-любителем г. Хетагуровым настолько изящно, что видевшие этот рисунок отдают полную справедливость таланту горца-художника. Орнамент столика состоит из ружей, кинжалов, пистолетов и луков со стрелами. Все это сделано под чернь. В промежутках восемь рисунков. Из них – четыре типа: девушка, мальчик, юноша и старик, и четыре картины: приглашение государя-императора в кунацкую, джигитовка, кабардинский танец и школа. В центре круга, под развернутой порфирой, с царской короной наверху, изображен вензель государя из циркуля (символ науки и искусства), поперек лежащего пера (знак мира) и римской цифры III, внизу – колосья кукурузы, пшеницы и проса (знак трудолюбия). Все детали исполнены с замечательным искусством, так что фабриканту, который возьмет на себя этот труд, предстоит нелегкая работа». (Газета «Северный Кавказ», 1888, №16).
А вскоре, как бы откликаясь на просьбу прессы, Коста представил владикавказцам возможность вновь «познакомиться и с другими произведениями своего таланта». На этот раз это была выставка-продажа картины «Скорбящий ангел». Об этом событии горожанам сообщают «Терские ведомости»: «Наш местный любитель- художник г. Хетагуров выставил во Владикавказском собрании для продажи еще новую картину (копию с картины Ланделя), носящую название «Скорбящий ангел». Сюжет картины следующий. Посреди полотна в натуральную величину изображен ангел в белом, почти прозрачном одеянии, перепоясанном в талии, голова его откинута назад, и на левой щеке застыла слеза. Кисть правой руки, как бы заслоняя свет, покоится на челе, образуя над глазами глубокую тень. Левая совершенно обнаженная рука опирается на перекладину деревянного креста, на самом верху которого прибит терновый венец, а посреди его помещен лист пергамента с четырьмя буквами «I. N. R. I». В художественном отношении картина отличается мягкостью тонов, правильностью освещения и, особенно, нежностью тела. Рефлексы выполнены удачно. Голова, находясь в ракурсе, делает шею несколько широкою, что сильно приводит в заблуждение многих, но художник, вероятно, не имел в виду неопытных ценителей. Выражение скорби на лице ангела так естественно, что заглавия излишни. Особенное внимание на себя обращает левая слегка согнутая в локте и сильно отделившаяся от креста рука. Она как живая и положительно всех приводит в восторг. Произведение г. Хетагурова может удовлетворить любой изящный вкус и служить украшением христианской церкви. Цена картины 200 рублей». (Газета «Терские ведомости», 1888, №23).
Судя по тому, что картина так и не нашла своего покупателя, действующей церкви она не приглянулась. Прямым основанием к этому могло послужить то, что в образе скорбящего ангела Коста вывел Анну Попову, дочь богатого владикавказского купца, к которой долгое время питал глубокие и сильные чувства. Сегодня, абстрагируясь от этого обстоятельства, можно смело утверждать, что картина «Скорбящий ангел», написанная художником в 29 лет, в полном расцвете творческих сил, – одно из наиболее выразительных, возвышенно-романтических полотен Коста-живописца.
Для воплощения своего замысла автор избрал подчеркнуто вертикальную композицию, безусловным центром которой являются голова и обнаженные руки девушки-ангела, как бы выступающие из густой и вместе с тем прозрачной тени. При этом особый акцент делается на голове, окруженной ярким, почти слепящим золотисто-светлым ореолом. Художнику удается достичь максимального, почти звонкого звучания света, который мягкими отблесками ложится на обнаженные руки ангела, насквозь пронзает ее легкие, словно на ветру трепещущие белые одеяния, и, наконец, у нижней части композиции затухающими всполохами сливается со все сгущающимся мраком. Написана картина широкими смелыми мазками, в ней явственно читается высокая и светлая одухотворенность. Она и в светлом лучистом нимбе вкруг головы юной женщины, и в страстном ее порыве, который зримо проступает в энергичном движении фигуры и особенно, в порывистом движении обнаженных рук. Эти руки воспринимаются как живые, бело-розовые трепетные крылья, которым противопоставляются черные крылья за спиной у ангела. Нет, не скорбящий ангел запечатлен в этой картине Коста, а скорее образ поэтической Музы – нежной, страстной и гордой.
Почти сразу же за картиной «Скорбящий ангел» Коста создает еще одно крупное произведение – «На школьной скамье жизни» (позже картина получила второе название «Дети-каменщики», порой используемое в исследованиях о творчестве Коста-художника), также датированное 1888 годом и впервые показанной на совместной с А. Бабичем (местным художником, другом Коста) выставке картин во Владикавказе. Как отмечала газета «Терские ведомости», картина «изображает мальчика-осетина из числа тех, которые на Военно-Грузинской дороге занимаются отысканием и продажею горного хрусталя. Художник схватил и передал на полотне тот момент, когда маленький дикарь, услышав приближение проезжающего или пешехода, перестает разбивать киркою лежащую около него каменную глыбу и протягивает руку с хрусталем, как бы говоря: «Купи!» Природа ущелья, фигура мальчика, его костюм, выражение лица и прочие детали – исполнены художником весьма правдиво». (Газета «Терские ведомости», 1888, № 79).
Исследователи живописного наследия Коста довольно часто обращаются к вышеприведенному тексту газетной заметки. Между тем, возможно, речь в газете идет совсем не о той, ныне широко известной композиции, за которой впоследствии закрепилось наименование «На школьной скамье жизни», а об одном из ее первых вариантов. В самом деле, в тексте описания картины обнаруживается присутствие лишь одного персонажа, одного мальчика-каменщика, а вовсе не двух, как это можно видеть в окончательном варианте картины. При том довольно тщательном описании, к которому прибегает автор газетной заметки, он вряд ли отказал бы себе в удовольствии упомянуть о втором персонаже, достаточно живописной фигуре голопузого малыша в войлочной шапке, равно как и о четвероногом друге малышей – колоритной кавказской овчарке, высунувшей язык от жары. Ее художник пристроил в правом нижнем углу картины у самых ног малыша-хозяина, логически удачно замкнув всю композицию. Автор же заметки, как уже отмечалось, ни разу не упоминает об этих персонажах. В этой связи уместно предположить, что на выставке 1888 года Коста показал либо один из рабочих вариантов картины, либо еще не совсем завершенную картину, которую позже не раз дописывал.
Подтверждение этой мысли встречается у М. Туганова, народного художника Осетии, последователя Коста Хетагурова: «Картина эта… была его любимым детищем… Коста много писал этюдов для этой картины, делал зарисовки пейзажей и типов детей. Лично мне приходилось любоваться не раз его солнечным этюдом, написанном маслом, размером 50 х 60 сантиметров, изображавшим головку девочки-осетинки в платке. Написан он был сочно и ярко. Работа эта долго хранилась у А.А. Цаликовой и, по наведенным справкам, погибла безвозвратно». (М. Туганов. Литературное наследие. Орджоникидзе, 1977, стр. 178).
О том, что Коста нравилась эта картина и, вместе с тем, он признавал необходимость дальнейшей работы над ней, свидетельствует письмо самого художника: «Фотограф Садулла прислал 2 снимка с моей злосчастной картины «Каменщики», которую Тхостов продал ханше и присвоил деньги… Снимки хотя и не особенно удачные, но меня привели в полное умиление, до того эта картина хорошо задумана и скомпонована. Я теперь только разглядел ее прелести. Употреблю все средства, чтобы получить ее обратно. Это прямо-таки сокровище, если ее еще поотделать…» (т.5,стр. 160).
Ни разу больше Коста-художник не выражал столь явного удовлетворения итогами своей работы, и было от чего. Картина «На школьной скамье жизни» – пожалуй, самое крупное, сложное, многоплановое произведение в живописном наследии художника. При довольно больших размерах – два на полтора метра – она и в самом деле прекрасно «задумана и скомпонована». В ней словно бы воплотились воедино все известные живописные жанры: портрет, пейзаж, натюрморт и собственно композиционная картина, и в каждом из них художник демонстрирует свое незаурядное мастерство.
С особой любовью и теплотой выписаны образы двух маленьких героев картины. Одному из них от силы
Коста всегда горячо любил, боготворил детей. В одном из своих писем он искренне признавался: «Лишенный с раннего детства материнской ласки и радостей семьи, я до сих пор с поразительной восприимчивостью переживаю волнения, радости и печали счастливого детского возраста. Нигде мне так не весело, как с ними, ни за кого я так не страдаю, как за них». (т.5, стр.
О социальной направленности картины «На школьной скамье жизни» писалось немало. К примеру, тот же М. Туганов утверждал: «Картина «Мальчики-каменщики» лучше всего отражает идеологию Коста в живописи… Непосильный труд мальчика-осетина, сидящего с тяжелым молотом под солнцепеком, и капли пота, струящегося по щекам его, нищенская одежда, лохмотья, прикрывающие обоих мальчиков, – все это ясно говорит о том, какой класс мы видим в передаче художника. Среди грандиозной, обстоятельной природы Кавказа – тяжелая, непосильная работа детей бедняков. Не случайна эта тема у Коста: это тот же «Додой» в живописи» (М. Туганов. Литературное наследие, стр. 151).
Другие параллели, к которым нередко прибегают исследователи, касаются таких известных картин, как «Тройка» Перова, «Сбор колосьев» Милле или «Дробильщики камня» Курбе. Однако сравнение картины Коста с названными произведениями во многом условно. К примеру, с «Дробильщиками камня» картину Коста роднит лишь общая тема. Однако, если персонажи французского художника – это хмурые, утомленные тяжким трудом труженики, как, впрочем, и персонажи Перова и Милле, то герои Коста – вполне здоровые, неунывающие дети-горцы с открытыми прямодушными лицами. Неподдельная жизнерадостность, сильный, негасимый дух – вот основные составляющие этого, безусловно, самого значительного живописного произведения Коста. Картина излучает не мрачный пессимизм, а здоровую энергетику, в ней сокрыто много человеческой любви, доброты. Глядя на портретные изображения детей, отнюдь не отмеченных печатью роковой обреченности, никак нельзя однозначно утверждать, что они вырастут изгоями общества. Да, по их изорванным в лохмотья одеждам не скажешь, что детство у них безоблачное и лучезарное. Но зато какие живые, лукавые искорки сверкают в их карих глазах!
Жизнеутверждающим началом отмечен и пейзаж с иссиня-голубым небом, с плывущими по нему прозрачными белыми облаками и грядой высоких заснеженных гор на заднем плане. Звучит ли он диссонансом по отношению к персонажам картины, как, к примеру, утверждает М. Туганов? Едва ли, два горца-малыша и райской красоты мироздание скорее воспринимаются во взаимосвязи как единое неразрывное целое, а мальчуганы, пусть и в изодранных до дыр одеждах, явно чувствуют себя здесь, в родных горах, единственными и полноправными хозяевами. Мир, исполненный чудесной красоты и гармонии, открывающийся прямо за их худыми детскими плечами, принадлежит им, и только им! Только так, через светлое мажорное восприятие, предлагается «прочитывать» это ключевое для живописного наследия Коста произведение. Думается, здоровый оптимизм, заложенный в картине, как раз и делал ее особо ценной и любимой для художника, который при всей строгости авторского подхода тем не менее отмечал в ней особые прелести и называл «прямо-таки сокровищем».
Тему детства затрагивает и другое полотно Коста – «За водой», где художник изобразил молодую горянку, спускающуюся за водой по крутым горным кручам с тяжелой бадьей за плечами. В подол матери крепко вцепился маленький босоногий карапуз, обладатель больших черных выразительных глаз, устремленных прямо на зрителя, и не менее больших оттопыренных ушей. Образ женщины-матери и ребенка, многократно и разнообразно интерпретируемый в мировом изобразительном искусстве, находит в этом произведении Коста яркое и неожиданное решение. Художник по сути создает образ горской мадонны, которую он отнюдь не идеализирует, а наоборот, скорее стремится подчеркнуть в ней черты типичности. Женщина-мать, женщина-труженица прекрасна своей естественной природной красотой и отмечена печатью того скромного врожденного благородства, которое всегда отличало женщин-горянок. Возможно, в картине Коста предпринял попытку воссоздать образ своей матери, Марии Хетагуровой-Губаевой, которую он потерял, когда ему не было еще и года, и чей смутный образ не раз вставал у него перед глазами, просясь на полотно. Коста написал несколько портретов матери и, по заверению людей близко знавших ее, она была очень похожа. В картине «За водой» художник вновь создает на редкость выразительные и, вместе с тем, сугубо национальные осетинские типажи, демонстрируя прекрасное знание народных характеров и народного быта.
Быт горского народа запечатлен и в другой жанровой картине «В осетинской сакле» (другое название «Гонка араки»). Как и в ряде своих поэтических и живописных произведений, Коста здесь прост и безыскусственен, скромен и неприхотлив. Ему нет необходимости что-либо выдумывать, жизнь сама в изобилии подсказывает сюжеты внимательному художнику, ему остается только с благодарностью их воспроизводить. Впрочем, Коста в этой картине прибегает к неожиданной и непривычной для себя, художника-реалиста, манере письма. По выбранной теме, по нарочито стилизованному авторскому почерку эту картину Коста вполне можно отнести к примитивизму, который, впрочем, оформился и набрал силу как самостоятельное художественное течение в искусстве значительно позже.
Портретная живопись в творческом наследии Коста вполне может быть выделена в особый и достаточно емкий раздел. По всему видно, что художник любил писать портреты, любил вглядываться в лица, скрупулезно изучать внутренний мир человека. Сохранилось девять живописных портретов, написанных Коста, пять женских и четыре мужских, а сколько их еще оказалось утеряно! В портретных произведениях Коста нет ни одного обобщенного или собирательного образа, все портретируемые вполне реальные люди, как правило, близкие знакомые художника, все они хорошо известны, легко узнаваемы, вот только отсутствует точная датировка портретов, что не позволяет проследить творческий путь Коста-портретиста в его поступательном развитии.
Одним из первых портретов Коста, выполненных им еще в годы учебы в Санкт-Петербургской Академии художеств, был, по свидетельству современников, «Портрет Кошерхан Жукаевой» (1882). Уже к владикавказскому периоду относится портрет А.Я. Поповой, который условно можно датировать
В благодарность за глубокие дружеские чувства, которые девушка питала к Коста, последний не раз посвящал ей стихи, дарил рисунки и даже запечатлел ее образ в картине «Скорбящий ангел», о чем уже упоминалось выше. «Мы из когтей самого ада вырвем свое счастье», – писал художник А. Поповой в одном из своих писем. Увы, этому счастью так и не удалось свершиться.
Совсем иначе решен другой известный женский портрет Анны Цаликовой (1898), занимавшей большое место в жизни и творчестве Коста, и с которой художник также безуспешно пытался связать свою судьбу. Девушка изображена в нарядном осетинском национальном платье с золотыми крючками-нагрудниками и в белой прозрачной шале, накинутой на плечи. Облокотившись одной рукой на каменный выступ скалы, Анна откровенно позирует художнику. Здесь нет той психологической углубленности, которая всегда отличает лучшие портреты Коста, он, что называется, из числа «парадно-декоративных» портретов.
Но Коста-портретист мог предстать и в совершенно ином обличье: то в качестве художника возвышенно-романтичного, как, например, в портрете Е.Ф. Крек-Носковой, то реалистически точного, даже сурового, как в портретах Тутти Тхостовой или Мысырби Гутиева.
Особо следует остановиться на «Автопортрете», где, как не в нем воплощает художник свое сокровенное «я» и свое отношение к миру. «Автопортрет» – единственный, среди портретов Коста, закомпонованный в круг, если не считать образа Христа в евангелическом «Нерукотворном лике». Такое совпадение, надо полагать, не случайно: Коста стремится написать автопортрет как бы в канонах христианских иконописных представлений. В автопортрете нет ничего лишнего, отвлекающего, мирского, только голова художника, запечатленная строго в фас. Из затемненного пространства круга прямо в упор на зрителя смотрят глубоко посаженные глаза художника, в которых превалируют два начала: мудрость и печаль. Автор словно бы хочет доверить нам, зрителям, нечто личное, сокровенное. Мы словно бы слышим голос самого Коста, озвучивающего строки «секретного», по его же определению, письма к близкому родственнику Иналуку Гайтову: «Нет! Я могу предложить только вечно тревожную и неизменно трудовую жизнь, полную смысла и целесообразности, проникнутую горячей любовью не только к семье и родственникам, но и к бедной нашей родине, ко всему страждущему, униженному и оскорбленному». (т.5, стр.37).
Кавказец, глубоко болеющий за свой народ и самозабвенно любящий свой край, Коста не мог не отразить в своем живописном творчестве природу Кавказа. Сохранилось не столь уж много пейзажей художника, но у Коста есть немало подготовительных рисунков, набросков к будущим пейзажным картинам. Пейзаж «Перевал Зикара» знакомит нас с одним из живописнейших уголков Осетии – аулом Джинат – родиной матери Коста. Высоко в горах, под пронзительно синим небом, у подножия вековечных ледников приютился богом забытый горный аул. Он безлюден, и только сизый дымок струится из скромных жилищ горцев к небу. В пейзаже глубоко впечатляет противопоставление безмерных, почти космических горных пространств с крошечными строениями человека.
Пейзаж «Тебердинское ущелье» относится к периоду пребывания Коста в ссылке в горах Карачая. И вновь необъятные горные дали, наполненные прозрачным светом и воздухом. Только на этот раз художник обращается к вертикальной композиции, чтобы лучше, убедительнее передать всю масштабность и панорамность открывающегося перед зрителем горного ущелья, начиная от заснеженных вершин, залитых светом утреннего солнца, и кончая серебристой лентой реки на самом дне ущелья. И как отправная деталь, ключ ко всей композиции – стройная ель на переднем плане.
«Я был выслан из Владикавказа, – вспоминал о том периоде своей жизни Коста. – Попал в трущобы Карачаевских гор, на серебро-свинцовый рудник… «Бестрепетно, гордо стоит на откосе джук-тур круторогий в застывших снегах», – старался я передать свое чувство, действительно, как тур, скитаясь по неприступным скалам центрального Кавказа». (т. 5, стр.47).
Занимаясь на руднике ведением счетоводных книг и журналов, Коста в часы досуга увлекался рисованием. Здесь им была выполнена серия из шести рисунков пером под общим названием «Виды Большого Карачая и нарождающийся в Карачае горный промысел», которые в 1892 году были опубликованы в петербургском журнале «Север» с краткими комментариями художника. Рисунки отличает острая наблюдательность и высокий профессионализм их автора. Другая их примечательная особенность в том, что в этих рисунках Коста впервые в осетинском искусстве обращается к образам пролетариев, рабочих-шахтеров.
Вообще Коста был прекрасным рисовальщиком, способным даже в маленьком штриховом рисунке ухватить основное, типичное. Свидетельство тому – многочисленные и разнообразные рисунки, которыми он любил украшать поля своих рукописей и страницы записных книжек, с успехом выполнял также титульные листы своих будущих изданий. Рисунки Коста мало известны широкому зрителю, и в настоящем издании, по сути, впервые делается попытка ликвидировать этот досадный пробел.
К какому бы виду творчества ни обращался Коста Хетагуров, будь то станковая картина, портрет, пейзаж, графический рисунок, он выступает в них как подлинный художник-реалист, новатор и первопроходец. Небольшое по объему художественное наследие Коста явилось прочной основой для дальнейшего развития национального изобразительного искусства в Осетии.
Ассоциация «IR», 2000 г.
Газета «Владикавказ» №22 (388)