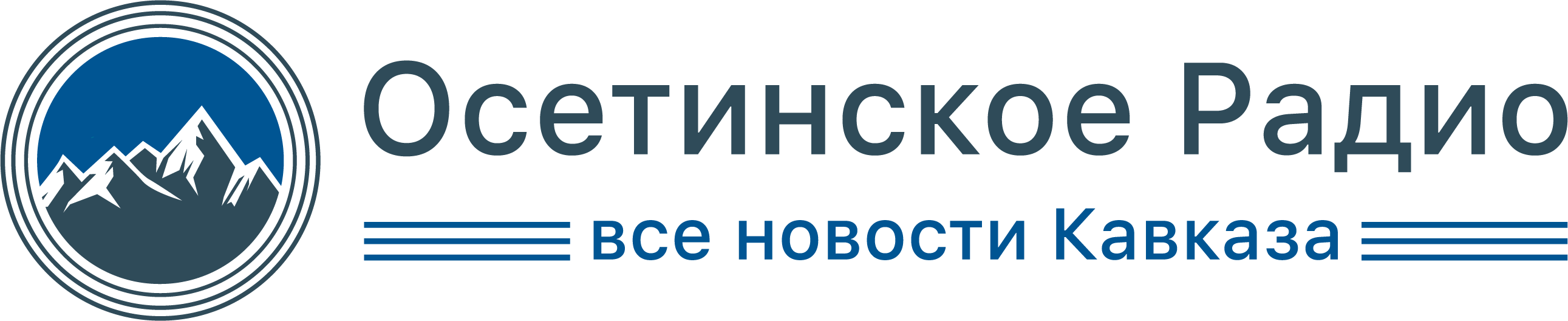Владикавказ дал кров сиротам войны

— Наш Детский дом, носивший имя соратницы В.И.Ленина Н.К.Крупской, располагался на улице Гибизова, 14, в чьем-то бывшем дореволюционном особняке с небольшим двориком.
Помню, в глубине двора, у самого забора, высокого, в полтора-два человеческих роста, сложенного из булыжника, каждую весну цвела роскошная магнолия. Она была единственным деревом в пустом дворе и единственным светлым пятном, радовавшим глаз. Здесь не было ни качелей для ребят, ни беседки, или чего-нибудь еще, на чем бы остановился детский взгляд. Незаасфальтированный, а потому пыльный двор, навевал тоску, а кроме того мы были предоставлены сами себе.
Незадолго до обеда нас заводили в зал, где по над стенкой стояли изящные венские стулья. Атрибутом цивилизации было пианино, а около него в массивной кадке — фикус. Кроме зала в здании имелись, не считая кухни, столовой, кабинета персонала, изолятора и подсобных помещений, две огромные спальни: одна для девочек, другая — для мальчиков. В каждой спальне помещалось 30 и более того коек. От воспитателей мы слышали, что группы переполнены и работать с контингентом разношерстных детей очень трудно.
С этим непростым положением им приходилось мириться, потому что на улицах нашего города и на вокзале было много сирот войны. Кроме нашего детдома, в городе их было еще несколько: имени В.И.Ленина на улице Горького, имени Коминтерна на улице Интернациональной, имени Клары Цеткин на улице Кирова. Все они были переполнены. Был также до отказа заполнен детский приемник, куда приводили с улицы беспризорников для прохождения 21-дневного карантина. Оттуда их по возрастам распределяли в детские дома.
Это было тяжелое детство, но все же мы были накормлены, имели крышу над головой. По сравнению с теми детьми, которые скитались на улицах города, мы были в тепле и в сытости. Мы это умели ценить, хоть и были малолетними.
По утрам раньше всех к нам приходила дежурная воспитательница и ровно в 7 часов раздавался ее звонкий голос: «Подъем!» Нехотя вставали мы из теплых постелей, затем под ее бдительным оком заправляли койки, хватали полотенца и бежали в умывальник, где было всего шесть кранов. Все не успевали одновременно умыться и поэтому выстраивались в очередь.
До завтрака мы причесывались, приводили себя в порядок. Потом раздавалась команда, нас строили в затылок друг к другу и вели в столовую.
Обычно нам давали на завтрак кашу (чаще всего — перловую), 200 граммов черного хлеба и по граненому стакану бледного чая. Все это съедалось в миг. Мы не наедались. Сколько помню, мы всегда ощущали чувство голода, нам всегда хотелось есть.
После завтрака снова раздавалась команда строиться на линейку. Мы выстраивались по группам буквой П, к нам выходила вся администрация детского дома и кто-нибудь из них читал нам вслух газету с последними новостями с линии фронта. Все слушали стоя, хотя мы и были маленькими, мы понимали главное — погибали наши в битве от рук непрошенных и жестоких людей из другого государства. Каждый раз, когда сообщали о количестве погибших, перед глазами всплывал образ моего брата Михаила, ушедшего на фронт в 1942-м году в 17-летнем возрасте (много лет спустя после окончания войны пришло извещение о его гибели на границе Венгрии и Румынии).
После политинформации к нам приходила музыкальный работник, которую между собой мы называли пианисткой из-за того, что она, разучивая с нами песни, аккомпанировала нам на пианино. Помню их до сих пор: «Вставай, страна огромная…», «Бьется в тесной печурке огонь», «Броня крепка и таник наши быстры».
Учились мы в общеобразовательных школах города: в 28-й и 4-й вместе с «домашними» детьми («домашними» мы их называли с изрядной долей зависти, потому что у них были папы и мамы, и жили они не в помещениях казарменного типа, а в собственных квартирах).
Шли годы… Мы подрастали (к нашему неудовольствию, потому что в 14-15-летнем возрасте нас «пристраивали» на заводы и фабрики).
И вот нашу, очередную, группу мальчиков и девочек должны были «выводить» из детдома. Устойчивое выражение «выводить из детдома» означало что-то вроде выпуска.
Когда администрация принимала решение на педсовете, кого следовало «выводить» — все было обыденно: просто готовилась документация, вернее, досье на каждого. И никакого ажиотажа или суеты вокруг этого судьбоносного для нас события не было.
В обычных школах готовились к торжественной линейке, к выпускному балу. У нас же все было «без сантиментов». Нас просто сажали в автобус и отвозили к месту нового пребывания. «Сдавали» каждого (это тоже было специфическим выражением) по списку. Обе стороны — те, кто «сдал» и те, кто «принял» — расписывались в надлежащих документах. И все. Начиналась взрослая, самостоятельная жизнь.
Пришло время, когда и меня с группой девочек внесли в список «выводящихся». Среди детей почему-то пронесся слух, что нас должны отправить в подмосковный город Гусь-Хрустальный на фарфоровую фабрику. Мы понятия не имели об этом городе и тем более о фабрике, производящей фарфор. Отлично помню, что в ту «гусь-хрустальную группу» попали: Сирана Конганиди, Рая Арбиева, Шура Щербакова, Вера Лабышева, Галя Герасименко, Зулейхан Расулова, Таня Лапшина, Ладо и Шура Халиевы и Толя Поляков.
В один прекрасный день все эти девочки и два мальчика убыли из детдома, а на их место комиссия приняла новую группу детей.
Александра Басиева. Владикавказ