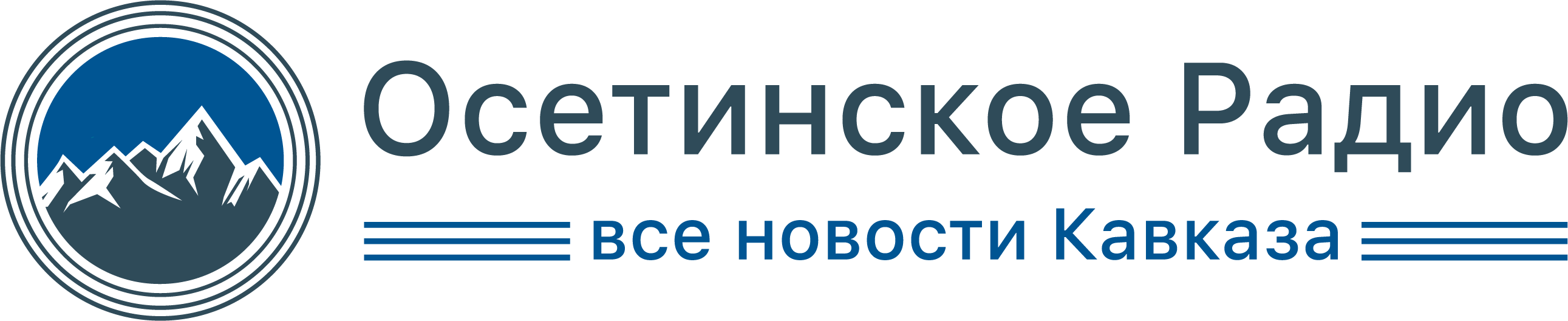«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»

Cоциолог Ирина Костерина — о том, как устроена жизнь простых людей в самом противоречивом регионе России
Северный Кавказ с точки зрения получения информации — регион крайне сложный: чаще всего приходится иметь дело либо со спускаемыми властями официальными заявлениями, либо со стереотипами и слухами.
Фонд Генриха Бёлля в последние несколько лет провел масштабное независимое исследование ценностных установок людей в четырех республиках Северного Кавказа, в ходе которого были опрошены более полутора тысяч человек. Ирина Костерина, социолог и куратор гендерной программы фонда, рассказала The Village об этом исследовании, его выводах и жизни людей на Северном Кавказе.
— Как вообще был задуман проект по исследованию ценностей на Северном Кавказе, зачем он был нужен фонду Бёлля?
На Северном Кавказе я начала работать семь лет назад, когда пришла в фонд. Был большой проект, который назывался «Благотворительная больница для женщин в Махачкале». Женщины, которые приходили с проблемами со здоровьем, часто жаловались, что у них в семье проблемы, муж бьет, и мы финансировали часть, связанную с их поддержкой — не медицинской, а психологической и юридической.
Потом эту больницу закрыли — местные власти выкинули ее из помещения. Мы начали следующий проект с «Союзом женщин Дона» под названием «Усиление развития демократических лидеров на Северном Кавказе» — его финансировала Еврокомиссия, а она любит такие названия. Суть заключалась в том, что мы пытались найти в четырех республиках — Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — активных людей, которые хотели менять к лучшему жизнь в республиках, и делали для них тематические семинары по развитию проектного мышления, анализу ситуации. Все было хорошо, но быстро стало понятно, что это очень специфическая среда со специфическими запросами.
Во-первых, героев приходилось искать с помощью сарафанного радио. Мы специально не объявляли открытый набор, потому что по открытому конкурсу могут прийти государственные чиновники, которые любят правозащитный туризм: это когда ты делаешь вид, что ты правозащитник, и ездишь по всему миру на семинары (я думаю, что 60 % российской правозащиты занимаются правозащитным туризмом). Во-вторых, в Чечне почти все общественные организации выросли из палаточных лагерей, то есть во время войн приезжали международные комиссии, гуманитарные и правозащитные, набирали местных людей и обучали их, как оказывать психологическую помощь и организовывать жизнь, и вот эти наученные люди — одни из самых сильных, кто потом в Чечне и Ингушетии стал работать. Они сейчас уже, конечно, не занимаются конфликтами, а ушли в широкую общественную деятельность. Но у них очень специфический взгляд и интересы.
При этом Северный Кавказ часто изучается с точки зрения экономики, политики, но мы очень мало знаем, какие на самом деле потребности и ценности у обычных людей в регионе. И поэтому мы решили провести масштабное исследование. Мы к тому времени уже поняли, что надо работать все-таки в республиках, где есть ислам, — это очень важный фактор. Поэтому мы убрали Северную Осетию и взяли Ингушетию. Всего мы опросили 723 женщины и почти 800 мужчин, включая 160 глубинных интервью.
Фонд Генриха Бёлля — немецкая неправительственная организация, поддерживающая проекты в сфере развития гражданского общества, политического образования, прав человека и межкультурного диалога. Фонд работает в России с 1990 года.
— Как вообще проходят полевые исследования на Северном Кавказе? Насколько там люди готовы откровенно говорить
с социологами?
Мы начали с того, что всех участников проекта обучили, как проводить исследование, потому что полевых социологов, которые в состоянии разработать качественную анкету, продумать методологию, там нет. Мы разработали гайдлайны для интервью: где берем информантов, как сделать так, чтобы человек с тобой не боялся разговаривать искренне, как обеспечить всем респондентам безопасность после. У нас в анкетах были вопросы про секс, например. Как женщине в Чечне задавать вопросы про секс? На Северном Кавказе нельзя просто пойти с анкетами по домам и говорить людям: «Заполняйте».
Не будут они заполнять ничего, напишут: «Мы все девственницы, замуж вышли девственницами и умрем девственницами». Мы придумали такой метод: женщин ищем в женских местах — детских садах, салонах красоты, на рынках, в банках, потому что часто именно женщины оплачивают счета, даже на свадьбах. А мужчин — в мужских: например, в таксопарках, на автомойках. Водителей маршруток опрашивали.
— А исследователи должны были быть того же пола?
Северный Кавказ — никакая не архаика: это очень модернизированный регион в экономическом плане
Вот это был наш лайфхак. Когда мы исследовали женщин, у нас были только женщины: мы понимали, что про личную жизнь, домашнее насилие, сексуальность женщина разговаривать с мужчиной-интервьюером не будет, это страшный стыд вообще. А когда мы разрабатывали методологию для мужчин, решили сделать так. Во-первых, у нас были исследователи местные и неместные: на какие-то вопросы люди охотнее разговаривали с неместными, плюс у неместных всегда есть возможность спросить: «Я не очень знаю эту вашу практику, не могли бы вы подробнее рассказать?» Во-вторых, работали исследователи обоих полов.
С женщинами-интервьюерами мужчины гораздо больше делились эмоциональными вещами. С мужчинами — красиво про политику, про экономику разговаривали, как все устроено в республике. С женщинами — об интимном, о любви несчастной, о том, что он чувствует себя лузером, потому что не может семью прокормить, о любовницах. Один мужчина даже попросил женщину-интервьюера найти ему любовницу прямо в ходе интервью: «А у тебя нет на примете какой-нибудь девушки, которая могла бы со мной встречаться, а то видишь, как у меня все сложно?» К слову пришлось.
Когда исследование завершилось, мы собрались все, кто был в поле, его обсуждать. И люди из республик сидели вот с такими глазами и говорили: мы в шоке от данных, которые мы получили. Мы обнаружили, что Северный Кавказ — никакая не архаика, не традиционное общество, как о нем думают многие (что там отсталый регион с сельской экономикой). Ничего подобного: это очень модернизированный регион в экономическом плане.
— А в чем именно заключается модернизация?
Согласно данным Росстата, летом 2016 года уровень безработицы в СКФО составлял 10,6 % — эта цифра в два раза выше, чем в среднем по России. В то же время уровень безработицы в Чечне составляет 16,2 %, а в Ингушетии — рекордные 30,8 %.
Прежде всего в роли работающей женщины. Она невероятно высока в регионе, и она во многом важнее, чем роль работающего мужчины. Безработица жуткая почти во всех четырех республиках, и вот на фоне этой безработицы, на фоне того, что у людей реально мало денег, женщины экономически куда более активные.
Это связано со структурой рынка труда: работ, где могут работать женщины, больше. Всякий сервис, сфера услуг. Мужчина же на Северном Кавказе не будет работать продавцом, правильно? Не будет. Есть ценностный барьер, что мужчины должны работать на мужских, крутых работах. Это связано с кавказской маскулинностью, с представлением о том, что достойно мужчины, а что нет.
У женщины на Северном Кавказе нет таких проблем. Надо полы мыть — пойдет полы мыть, надо на кассе сидеть помидоры продавать — пойдет помидоры продавать. Плюс женщин-госслужащих там тоже больше: местные администрации, садики, банки, школы — везде работают женщины. Больницы, опять же. То есть у женщины гораздо больше возможностей трудоустроиться.
— А насколько это осознается самими людьми и меняет ли как-то расстановку сил в семьях?
Все, что сейчас осталось от кавказской традиционной культуры и кавказской маскулинности, — это риторика
Если ты спросишь кавказского мужчину: «Какое у вас положение женщины?» — что он ответит? «У нас на Северном Кавказе женщина на очень высоком месте. Женщина святая, она мать. Никто ее пальцем не тронет. Если женщина идет по улице, раньше мужчина должен был на другую сторону дороги переходить и не смотреть на нее». И они рассказывают тебе все эти красивые правила, которые действительно так в культуре формулируются, но это риторика. И эта риторика вообще на жизнь никак не влияет. Культурой предписывается женщине не находиться одной в обществе чужих мужчин, а она на работе. Или вот по правилам женщина без сопровождения мужчины не должна вечером куда-то идти, а ей надо за продуктами или детей забирать из детского сада. Так что все правила нивелируются действительностью.
А дальше что происходит? Северокавказские представления о традиционном разделении гендерных ролей такие, что мужчина кормилец, а женщина должна быть женой и хозяйкой. Это нормативное разделение осталось, никто с женщин не снимает домашние обязанности. Это святое: обеспечивать кухню, стирку, готовку, уход за скотом, за детьми (а их много в семье). Старые родители еще, которые с тобой живут. Кто ими должен заниматься? Ну конечно, женщина. Поэтому она работает с восьми до пяти, а потом у нее вторая смена. А мужчина в это время часто безработный. Как он себя чувствует? Он себя чувствует хреново. Он чувствует, что его роль мужчины не выполняется, и поэтому он начинает придумывать всякие интересные лайфхаки, как бы ему стать более мужчинным мужчиной. Часто происходит так, что он начинает орать на свою жену, гонять ее и говорить: ты плохая хозяйка, плохой гылныш сварила! Он проявляет власть — и вся власть, что у него есть, это дома что-то приказать своей жене или наказать ее, наорать на нее. И это, конечно, ужасно, потому что это приводит к высокому уровню домашнего насилия.
Поэтому все, что сейчас осталось от кавказской традиционной культуры и кавказской маскулинности, — это риторика. И это очень большая проблема, потому что люди активно ищут, на что им вообще опираться. И находить это очень-очень трудно.
— А какие есть варианты таких ценностных опор?
Идет очень сильное национальное конструирование: например, мы чеченцы, мы крутые, мы древнейшие.
С одной стороны, есть сильная внутренняя стигма: люди чувствуют, что Российская Федерация их неохотно принимает. Сначала Россия колонизировала Северный Кавказ, а потом стала держать их как в гетто. Люди это прекрасно понимают: чеченцы, ингуши помнят свою депортацию прекрасно.
В каждой семье есть история о том, как их бабушкам и дедушкам Советский Союз дал пинок под зад и выкинул хрен знает куда. А параллельно к ним относятся как к террористам — каждый раз, когда люди приезжают в Москву, бесконечно проверяют документы. Так что стигма очень сильная. Но человек устроен так, что он должен чем-то гордиться, думать: «Я хороший». Сейчас они гордятся тем, что они чеченцы. Несколько лет назад открылось новое здание Национального музея в Грозном. Когда я там была, мне устроили персональную экскурсию и рассказывали, что чеченцы — самый древний народ на Земле.
Другой вариант — исламская идентичность. Она для многих людей гораздо сильнее, чем национальная. Особенно среди молодежи. У старшего поколения национальная идентичность сильнее, они больше держатся за традиции, ритуалы: на каком расстоянии от женщины сидеть, как свадьбу играть, кровная месть, опять же. А молодое поколение с этим уже не всегда соглашается, особенно если исламская идентичность берет верх.
— Получается, что ислам противостоит традиционной культуре, а не сочетается с ней?
Да, и во многом ислам оказывается более модернизационным сценарием, как ни странно. Он рвет с традициями, он рвет с поколенческой передачей. Раньше авторитет старейшин был святым делом. А теперь молодежь говорит в духе: «Не, ребята, вы извините, конечно, мы должны вас уважать, но мы мусульмане, делаем пять раз намаз, держим уразу, а вы не делаете намаз и не держите уразу, так что вы не можете нам указывать, как нам жить и что делать. Мы лучше вас все знаем и в исламе разбираемся лучше, а вы вообще просрали все в своей жизни, и республику нашу тоже».
Это не прямой конфликт, но молодежь через исламскую идентичность ушла от традиций, закрыла тему традиций во многом. Самый интересный случай — это Кабардино-Балкария. Это изначально была самая светская из республик и оставалась такой до последнего времени. И вот мы в нашем исследовании обнаружили, что сейчас самый высокий уровень многоженства среди молодежи именно в Кабардино-Балкарии.
— Тоже в силу поворота к исламу?
Да. В Кабардино-Балкарии ведь очень сложная ситуация. Во-первых, два народа, которые недолюбливают друг друга, но при этом искусственно объединены в одно. Национальный вопрос нельзя поднимать в Кабардино-Балкарии: никаких праздников национальных, никаких обсуждений, как мы тут живем, кабардинцы и балкарцы, чья это земля, — все это власти стараются задавить, чтобы не было этнического конфликта. А больше ничего нет, опираться не на что. Чем гордиться: для России ты, опять же, «кавказец», внутри республики гордиться нечем, а еще и кабардинскость выпячивать нельзя — вообще непонятно.
И вот пришел ислам и ответил на этот вопрос: можно гордиться, что ты мусульманин, что ты попадешь в рай и все будет хорошо. Причем ислам пришел в Кабардино-Балкарию сразу в радикальной версии, и очень много молодых людей стали уходить в леса и быстро погибать. И сейчас там активно работают рекрутеры ИГИЛ.
Но, что интересно, молодежь пытается противостоять радикальному исламу именно с помощью проявления национальной идентичности: давайте вспомним наши корни, давайте вспомним, кто мы. И люди вспоминают, что у них есть национальные костюмы, национальные танцы. Каждую среду теперь в Нальчике танцуют лезгинку на центральной площади несанкционированно. Точнее, так: местные власти сначала всех разгоняли, а теперь они уже стали делать вид, что они организовали все. Это очень интересно: в трех республиках — Чечне, Ингушетии и Дагестане — идет уход от национального к исламу, а в Кабардино-Балкарии — попытка, наоборот, противостоять радикальному исламу через национальные идеи.
— А какие вообще у молодых людей настроения, помимо этих двух противостоящих друг другу сюжетов?
Люди не знают, что делать со своей жизнью. Они сидят внутри республики и видят, что варианты такие: можно пойти работать юристом, экономистом в банк, врачом, на стройку, продавцом или нотариусом
Меня удивил очень сильно и во многом объяснил, что там происходит, ужасно низкий горизонт ожидания. Люди не знают, что делать со своей жизнью. Они сидят внутри республики и видят, что варианты такие: можно пойти работать юристом, экономистом в банк, врачом, на стройку, продавцом или нотариусом. Нотариусом лучше всего. И нет представления, как может быть устроена жизнь по-другому. Когда мы спрашивали респондентов: «Чувствуете ли вы себя счастливыми?» — у людей подвисал мозг.
Они спрашивали: «Что это значит? У меня же есть семья, дети». «Да, у вас есть семья, дети, но что вы чувствуете?» Человек на Северном Кавказе встраивается в определенную систему правил, и эти правила его двигают куда-то. Двигает семья, уровень дохода в семье, общественное мнение — последнее самое главное, всесильная рука общественного мнения. А больше ты ничего не можешь и не знаешь. Очень мало людей имеют опыт выезда из республики: в основном где родились, там и живут. В лучшем случае съездят в Минводы или в Москву. Но в Москве менты шмонают везде, город большой и страшный, поэтому люди от этого опыта сразу отгораживаются.
Мы проводили тренинги для мужчин на Северном Кавказе — три тренинга для 24 человек. Это люди, которые еще не имеют опыта общественной деятельности, но хотят что-то делать для своих республик. И мы спрашиваем: «Чего лично вы в жизни хотите?» — «Я еще не женат, хочу жену завести». — «Этого именно вы хотите?» — «Да нет, это родители хотят, уже невесту подыскивают». И вот сидит человек два часа и думает, думает. Потом приходит и говорит: «Я в Европу хочу на машине съездить попутешествовать. Посмотреть, как жизнь устроена у людей». Вот они этого раньше не формулировали вообще, жили в своих программах. Мы предложили задуматься: планирование жизни, ощущение собственных ресурсов и собственных сил, что важно, что можешь? Личные желания — окей, вы с ними сами разберетесь, вы их сформулировали, и слава богу. А потом — желания общественные: что вы хотите изменить в своей республике. Они все реально чего-то хотят.
— И чего хотят?
Кто-то хочет, чтобы молодежь стала более активная, подняла жопу с дивана, потому что там в основном времяпрепровождение овощное: работа не бей лежачего, если она вообще есть, друзья, телевизор. Они говорят: мы хотим, чтобы молодежь экологией занялась, город убирала, организовывала мероприятия для себя, английский учила. Кто-то хочет, чтобы не было радикального ислама. Кто-то хочет исторической справедливости.
— Исторической справедливости в каком именно виде?
Единственное, что на Кавказе виртуозно освоили, — это WhatsApp. По WhatsApp тебе и ролик смешной пришлют, и на день рождения букеты роз в блестках
Признание геноцида черкесского народа. Признание депортации чеченцев и ингушей. Им ведь даже запрещают 23 февраля — в этот день в 1944 году началось выселение — говорить о нем публично. Ты не можешь организовать в городе мероприятие, посвященное памяти депортации чеченцев и ингушей: какая еще депортация, 23 февраля — День защитника Отечества! И люди хотят восстановления исторической справедливости, обнародования документов, актов.
Еще кто-то хочет заниматься правами женщин — просвещать людей, что бить свою жену по исламу, вообще-то, не очень положено. Кто-то хочет собирать клубы по интересам, чтобы компенсировать недостаток образования, который там есть. А это, кстати, очень серьезная проблема, вплоть до того, что люди не умеют ориентироваться на местности. Географии не было в школе. Не понимают карты. Не могут дойти из пункта А в пункт Б.
— А по навигатору в смартфоне?
Инстаграм Рамзана Кадырова — де-факто главное новое медиа Северного Кавказа, в котором глава Чечни может как поздравить с днем рождения близкого родственника, так и поддержать одиозного байкера Хирурга в конфликте, разгоревшемся после выступления Константина Райкина о цензуре. На аккаунт kadyrov_95 подписаны свыше 2 миллионов человек.
Говорят: я не понимаю, что это. Ну хорошо, ты мне сказала, что север вверху экрана, а на улице где север? Как я должна понять? Поэтому, если мы где-то назначаем мероприятие, люди не в состоянии прийти из своего отеля к месту проведения семинара, за ними надо зайти и их довести. Компьютером пользоваться не умеют, прикрепить фотографию к письму люди не в состоянии. Единственное, что на Кавказе виртуозно освоили, — это WhatsApp. Это единственная техническая вещь, которая прижилась очень быстро. По WhatsApp тебе и ролик смешной пришлют, и на день рождения букеты роз в блестках. Вот эти вотсаппки говорящие — голосовые сообщения — на Северном Кавказе первыми придумали отправлять.
— СМИ писали о том, что на Кавказе рассылки в WhatsApp — своего рода альтернатива свободной прессе. Это так?
Уже нет. После того как чеченских женщин, которые после «свадьбы века» пересылали друг другу ролик с комментариями, вызвали на ковер к Кадырову, люди поняли, что все читается и скринится. Поэтому это уже никакое не СМИ, а чисто так, веселуха.
— А есть ли какое-то внутреннее объяснение, почему главное средство коммуникации Кадырова — это инстаграм?
Инстаграм вообще очень популярен на Северном Кавказе. Я смотрю, сколько у участников наших семинаров френдов в социальных сетях. В фейсбуке может быть, скажем, 130, а в инстаграме — 2 500 френдов. Там на визуальную культуру очень сильно ориентированы. Не надо длинный текст читать, все наглядно: глянул, посмеялся, лайкнул, все. Какое еще медиа позволяет так сделать? А кроме того, у них продвижение всяких местных товаров там активно идет. На меня вот подписаны «Волосы Ингушетия», «Ногти Чечня» и так далее.
— Чечня более-менее на слуху; можете ли вы как-то прокомментировать, какая сейчас жизнь и ситуация в Дагестане?
В Дагестане сейчас главное то, что начинаются репрессии против мусульман. На уровне республики введена такая практика — повальная постановка на профилактический учет всех людей, которые выглядят как нетрадиционные мусульмане. Вот, например, идет человек, у него борода без усов, подкатанные штаны. Этого человека берут за рукав и говорят: «Ну-ка пойдем, что-то ты похож на ваххабита». Человека за бороду и штаны реально ставят на профилактический учет, а постепенно уже и образцы ДНК стали собирать у этих людей. Вообще-то, это нарушение прав человека, но при этом находятся и жители самого Дагестана, которые считают, что это правильно.
— Нетрадиционные мусульмане — в смысле более радикализированные?
Нетрадиционные мусульмане не всегда радикализированные. Это салафиты, у них есть определенная идеология, они за более чистый ислам, за возвращение к истокам, намаз делают по своим правилам. Для некоторых из них важен дресс-код, вот эта борода с подвернутыми штанами. Женщины-салафитки часто носят хиджабы.
— А вообще дагестанские женщины не должны носить хиджабы?
Нет. И чеченские женщины не должны носить хиджабы. Женщины носят те головные уборы, которые приняты в традиционной культуре. В Чечне принята такая повязка, чеченская косынка. Это официальный дресс-код, который ввел Кадыров для государственных учреждений: для всех школ, университетов, администраций. Женщины обязаны покрывать волосы. А хиджаб — это чисто мусульманская вещь, он в большей степени у нетрадиционных мусульман идет, и поэтому сейчас часто запрещают ходить женщинам в хиджабе.
Мою знакомую, преподавательницу чеченского университета, как-то раз не пустили в школу на экзамен. Она пришла в косынке, но у нее на рукавах были вырезы. Ей охранники сказали: «Мамаша, вы неприлично выглядите». Она профессор, доктор наук. Отправили домой переодеваться. И вот так там все: нельзя ходить с открытыми руками и без косынки, но и нельзя ходить в хиджабе. Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это «шизофрения». Полная ценностная шизофрения. Люди сами не понимают, что им можно, а что нельзя. Хорошо, женщину не пускают без косынки, но если она наденет хиджаб и придет — ее опять же не пустят. Или вот глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров еще решил помпоны с шапок отрезать. Люди иногда просто беленеют от того, что не понимают, какие еще правила будут выдуманы на следующий день и сколько могут унижать их человеческое достоинство.
— Раз уж вы упомянули Ингушетию: есть там ли какая-то специфика?
Мне кажется, что в целом в Ингушетии на поверхности все менее драматично и бурно, но традиционная культура там сильнее всего. Ингушетия — очень маленькая, компактная, там уже почти отсутствует сельская культура, Магас и Назрань все на себя перетянули. Главное для ингуша — это построить большой дом и жить там всей семьей. Семьи расширенные, большие. Женщины выступают в основном служанками для своих больших семей. Я сама интервью не брала ингушские, но их читала, и там обсуждалось, что женщина должна мыть обувь всех членов семьи по вечерам.
— Каждый вечер?
Да, каждый вечер. Там было одно интервью, совершенно разрывающее сердце. Молодая женщина рассказала, что развелась с мужем, потому что подвергалась невыносимому гнету. Прям такое Средневековье нормальное. Свекровь ее не считала за человека, все время шпыняла. Женщина вставала утром в пять утра, доила коров, выпасала их, делала всем завтрак, кормила всех завтраком. За стол нельзя садиться, пока ты кормишь родственников мужа. Когда она была на седьмом месяце беременности, к ним приехали гости, и свекровь ей сказала, что уступи-ка ты им кровать и иди в сарай или на сеновал. Женщина воспротивилась, и утром муж ее так отчитал, что она его опозорила перед родственниками, что у нее начались схватки. Она говорит: «Мне надо идти в роддом, отвези меня, пожалуйста, к врачу». А свекровь: «А коров кто доить будет?»
Вот эту историю я периодически рассказываю в своих докладах, показываю цитату на слайдах, и слайд у меня называется «В иерархии в Ингушетии женщина стоит ниже коровы».
Автор: Нина Назарова
Источник: the-village.ru
http://kavpolit.com/articles/luchshee_slovo_kotoroe_opisyvaet_proishodjaschee_n-29319/